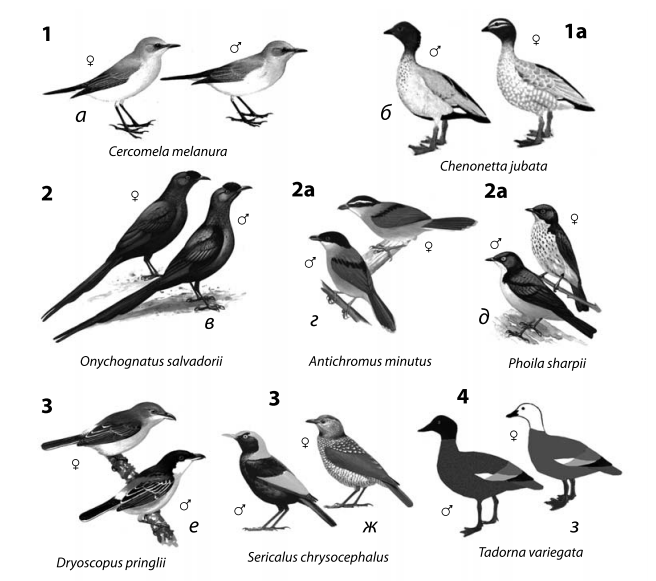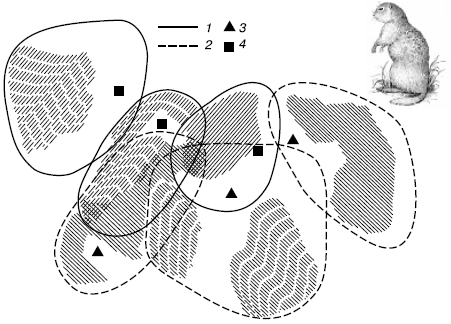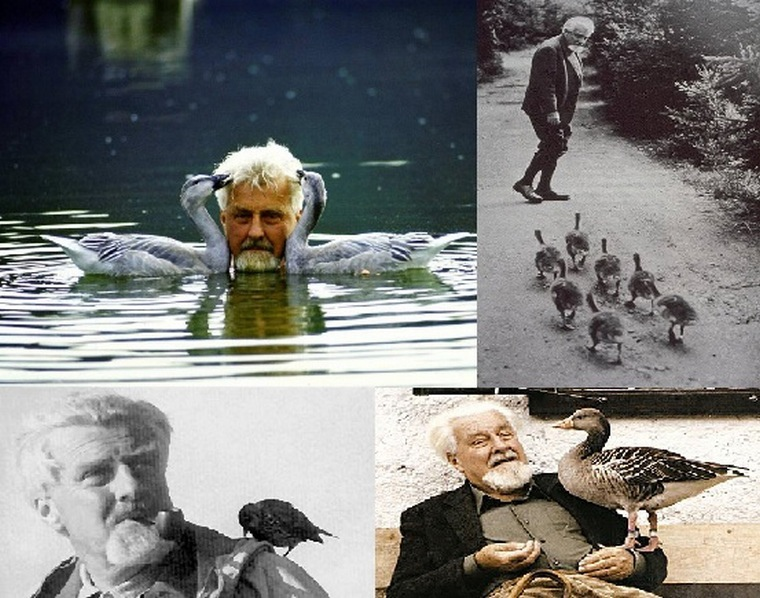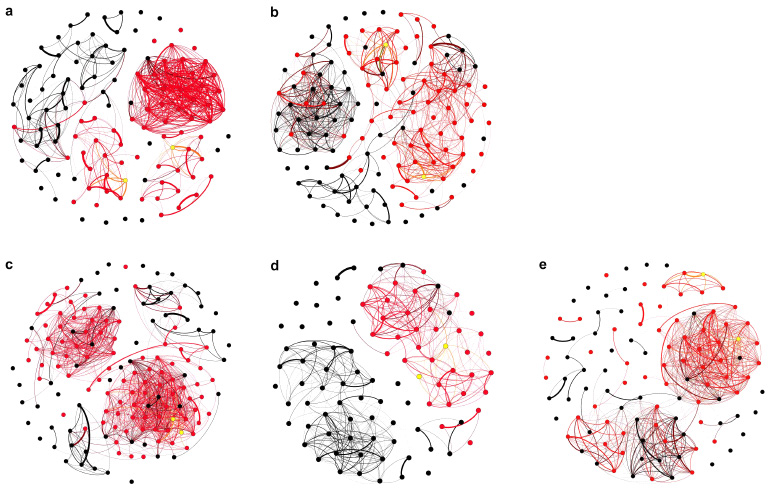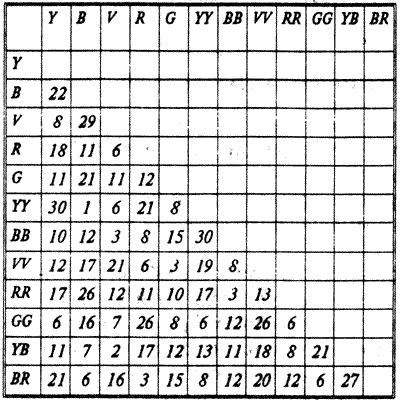Жизнь, продлённая до бесконечности
Человечество всегда стремилось преодолеть смерть. Это один из древнейших и глубочайших инстинктов — желание жить как можно дольше, избежать распада тела, остановить разрушение сознания. В мифах и религиях разных эпох отражена одна и та же мечта: бессмертие как высшая цель существования. От эликсиров вечной молодости в алхимии до трансгуманистических проектов по загрузке сознания в цифровую среду — идея продления жизни преследует человека, обещая либо райское существование, либо проклятие вечного застоя.
Но что именно мы хотим продлить — сам факт биологического существования или качество жизни? Должна ли наука стремиться к бессмертию, или смерть является необходимым элементом человеческой природы?
Чем бессмертие отличается от продления жизни?
Сегодня продление жизни уже становится реальностью. Технологии вроде редактирования генома (CRISPR-Cas9), сенолитиков (лекарств, уничтожающих стареющие клетки) и терапии стволовыми клетками обещают продлить молодость на десятилетия. Исследования Mayo Clinic показывают, что удаление стареющих клеток у мышей увеличивает продолжительность жизни на 36%. Однако это не бессмертие. Оно остаётся теоретическим концептом, требующим либо радикального замедления старения, либо загрузки сознания в цифровую среду.
Важно сразу разделить два понятия:
- Продление жизни — это медицинский прогресс, позволяющий человеку оставаться здоровым и активным дольше. Это уже происходит: средняя продолжительность жизни растёт благодаря медицине, генной инженерии, новым технологиям.
- Бессмертие — это радикальная идея устранения смерти как явления. Оно может существовать в разных формах: биологическое бессмертие (нестареющее тело), цифровое бессмертие (перенос сознания в машину), сознательное бессмертие (изменение восприятия смерти).
Технологический прогресс сделал первый шаг в сторону продления жизни. Но готово ли человечество к тому, чтобы полностью отказаться от смерти?
Почему люди боятся смерти?
Прежде чем говорить о бессмертии, стоит задать вопрос: почему смерть вообще пугает?
Наш мозг эволюционно запрограммирован избегать опасности. Глубокий страх смерти встроен в лимбическую систему — это базовый механизм, позволяющий нам выживать. Люди, у которых этот страх был сильнее, чаще избегали опасных ситуаций и передавали свои гены дальше.
Парадокс в том, что человек — единственное существо, осознающее свою конечность. Мы не просто инстинктивно боимся смерти, а осознаём её неизбежность, что приводит к экзистенциальной тревоге.
Для человека важно ощущение «Я». Мы боимся не просто перестать существовать, а исчезнуть как личность. Это страх утраты смысла, разрыва связей, исчезновения в небытии.
Также страх смерти связан не только с физическим исчезновением, но и с тем, что сотрется память о человеке. Люди стремятся оставить след: писать книги, создавать искусство, строить компании. Феномен «наследия» во многом является попыткой преодолеть смерть символически.
Ключевой вопрос: нужно ли человечеству бессмертие?
Современные технологии делают продление жизни реальной целью. В ближайшие десятилетия медицина, генная инженерия и искусственный интеллект могут радикально изменить человеческий организм.
Здесь возникают новые вопросы. Если мы устраним смерть, не потеряет ли жизнь смысл? Если люди перестанут умирать, не приведёт ли это к демографической катастрофе? Кто получит доступ к бессмертию — только элита или всё человечество?
Бессмертие — не просто научная перспектива, а этическое испытание, ставящее перед человечеством вопросы социальной справедливости, идентичности и смысла жизни. Даже если технологии продления жизни достигнут успеха, мы столкнёмся с вызовами, требующими не только научных решений, но и философского осмысления.
Исторический и культурный контекст
Идея бессмертия глубоко сидит в человеческой культуре. Она проходит через мифологию, религию, философию, алхимию и современные научные разработки. На протяжении тысячелетий люди пытались найти способы избежать смерти — либо физически, либо символически. И хотя во все эпохи смерть считалась неизбежностью, человечество никогда не переставало искать лазейки, создавая утопические концепции вечной жизни.
Бессмертие в мифах и религиях
Самые древние представления о бессмертии восходят к мифологии. Почти в каждой культуре есть истории о людях и богах, которые стремились преодолеть смерть. Но любопытно, что во многих мифах бессмертие часто оказывалось не благословением, а проклятием.
Например, в шумерском эпосе о Гильгамеше царь Урука отправляется на поиски секрета вечной жизни после смерти друга Энкиду. Но даже когда он находит растение бессмертия, его съедает змея, а сам Гильгамеш осознаёт, что бессмертие ему недоступно. Миф подчёркивает мысль, что смерть — часть человеческой природы, а стремление избежать её может привести к страданиям.
В греческой мифологии известен царь Тифон, которому боги даровали бессмертие, но забыли дать вечную молодость. В результате он старел бесконечно, превращаясь в дряхлое существо, неспособное умереть. Этот миф иллюстрирует дилемму: бессмертие бессмысленно без молодости и здоровья.
Многие религиозные традиции предлагают не физическое, а духовное бессмертие. В христианстве душа человека продолжает существование в загробном мире, а идея воскресения Христа символизирует победу над смертью. В индуизме и буддизме бессмертие реализуется через реинкарнацию — круг перерождений, который можно преодолеть, достигнув просветления.
Таким образом, древние мифы и религии признают, что бессмертие — не всегда благо. Оно может быть наказанием, иллюзией или недостижимым идеалом.
Философский камень и поиски эликсира жизни
Легенда о Николае Фламеле, средневековом алхимике, который якобы обрёл бессмертие, вдохновила поколения исследователей, но также породила множество шарлатанов, продававших фальшивые эликсиры жизни.
В Китае императоры династии Цинь искали бессмертие, употребляя зелья, содержащие ртуть. Вместо продления жизни они получали тяжёлые отравления. Что мы видим здесь? Стремление победить смерть без критического подхода может привести к катастрофическим последствиям.
Научный взгляд
В XX и XXI веках идеи бессмертия начали переходить из области магии и религии в сферу науки. Впервые человечество подошло к продлению жизни не как к мистическому феномену, а как к технологической задаче.
Современная медицина уже увеличила среднюю продолжительность жизни. В 1800 году человек в среднем жил 30–40 лет, в 1900 году — 50 лет, а в 2020-х средний возраст жизни в развитых странах превышает 80 лет. Вакцины, антибиотики, хирургия, генетика — всё это продлевает нашу жизнь, хотя и не делает нас бессмертными.
Сегодня учёные исследуют различные способы радикального продления жизни: редактирование ДНК, чтобы предотвратить старение, сенолитики (лекарства, убирающие стареющие клетки, которые вызывают воспаление и болезни), тканевая инженерия и нанотехнологии.
Некоторые исследователи, такие как Обри де Грей, утверждают, что первая бессмертная человеческая личность может родиться уже в этом столетии. Однако на пути к вечной жизни есть множество препятствий, как биологических, так и социальных.
Цифровое бессмертие
Если сознание можно перенести в компьютер, останется ли оно тем же самым? Этот вопрос напоминает древнегреческий парадокс «корабля Тесея»: если корабль постепенно заменять новыми досками, остаётся ли он тем же кораблём? Аналогично: если заменить биологический мозг на цифровую копию, будет ли это продолжением личности или её новой версией?
В последние десятилетия появилась новая концепция бессмертия — перенос сознания в цифровую среду. Подход предлагает отказаться от биологического тела и «загрузить» сознание в компьютер, создавая бессмертную цифровую копию личности.
Идея популярна в культуре — от фильмов («Матрица», «Трансцендентность») до книг (Рэй Курцвейл, Ганс Моравек). Сторонники цифрового бессмертия утверждают, что если скопировать человеческий мозг и создать его цифровой двойник, личность сможет существовать вечно.
Тут возникает вопрос: если сознание будет скопировано, будет ли это прежнее «Я»? Или появится новая версия, в то время как оригинал умрёт?
Философы, такие как Дерек Парфит, утверждают, что личность — это не статичное «я», а процесс, который может быть перенесён в другую среду. Однако, если сознание можно скопировать, это открывает ещё одну проблему: если существуют две копии одного человека, кто из них настоящий?
Итак, стремление к бессмертию — технологический вызов и философская дилемма, с которой люди сталкиваются на протяжении всей истории. Во всех культурах и эпохах люди искали способы продлить жизнь, но почти всегда сталкивались с тем, что бессмертие несёт не только преимущества, но и тяжёлые последствия.
Сегодня мы ближе к разгадке тайны старения, чем когда-либо прежде. Готовы ли мы к миру, где смерть исчезнет? Или же человек, получив бессмертие, столкнётся с новым кризисом, ещё более сложным, чем страх смерти?
Психологический аспект
Страх смерти — одна из самых фундаментальных эмоций, лежащих в основе человеческой психики. Этот страх — не просто реакция на угрозу жизни, а глубинная структура, влияющая на все аспекты поведения, от повседневных решений до масштабных цивилизационных процессов. Мы строим города, создаём религии, развиваем науку и искусство во многом для того, чтобы справиться с осознанием собственной конечности. Именно этот страх стал катализатором человеческого прогресса. Но если смерть исчезнет, изменится ли сам человек?
Когда мы говорим о бессмертии, то представляем его как освобождение от страха. Но так ли это? Возможно, отсутствие конечности создаст новые страхи, которых у нас раньше не было. Если страх смерти даёт мотивацию жить осмысленно, что произойдёт, если эта мотивация исчезнет?
Человеческий мозг — единственный в животном мире, который осознаёт свою конечность. Другие существа инстинктивно избегают опасности, но не строят философских теорий о том, что случится после их смерти. Осознание собственной смертности — это «плата» за развитое сознание, и оно сопровождает нас на протяжении всей жизни.
Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени» утверждал, что осознание смерти делает жизнь подлинной. Он называл человека «бытием-к-смерти» — то есть существом, которое живёт, зная о неизбежности конца, и именно это знание даёт смысл его поступкам. Если смерть исчезнет, что станет с аутентичностью человеческого существования?
Эрнест Беккер в «Отрицании смерти» описывает культуру как способ справиться с экзистенциальным ужасом. Искусство, религия, наука — всё это, по Беккеру, попытки человека оставить след и обрести символическое бессмертие. Но что случится с культурой, если страх смерти исчезнет? Не приведёт ли это к утрате мотивации к творчеству?
Парадокс заключается в том, что страх смерти не всегда осознаётся. Многие люди не думают о смерти в повседневной жизни, но он влияет на их решения: желание оставить наследие, создать семью, добиться успеха — всё это во многом формы борьбы со страхом исчезновения.
Если страх исчезнет
Если учёные смогут устранить смерть, каким станет человек? Потеряет ли он часть своей мотивации? Или же страх просто сменит форму, превратившись во что-то новое?
Одним из возможных последствий бессмертия может стать парадоксальный кризис смысла. Сегодня люди живут, зная, что время ограничено. Это заставляет их принимать решения, торопиться, реализовывать свои мечты.
Но что случится, если время станет бесконечным? Возможно, вместо свободы это приведёт к тотальной прокрастинации. Если у человека впереди вечность, зачем торопиться? Почему не отложить важные решения «на потом»?
Осознание конечности жизни заставляет человека действовать. Если убрать этот фактор, возможен эффект апатии и безразличия. Это похоже на феномен студентов, которым дали неограниченное время на выполнение задания: в итоге они либо так и не приступают к работе, либо бесконечно откладывают её.
Также есть мнение, что люди просто не смогут психологически выдержать вечное существование. У каждого из нас есть лимит переживаний, эмоциональных ресурсов, желаний. Даже сейчас, проживая 70-80 лет, многие люди к старости чувствуют усталость, потерю интереса.
Ницше рассматривал идею «вечного возвращения» — концепцию, согласно которой человек должен быть готов повторять свою жизнь бесконечно. Он утверждал, что большинство людей при мысли о бесконечном повторении своей жизни почувствуют ужас.
Будет ли человек счастлив, если ему придётся прожить не 80 лет, а 500, 1000 или миллион? Как изменится сознание, если в жизни больше не будет точки завершения?
Если люди начнут жить вечно, появятся новые социальные проблемы. Что делать с теми, кто устал жить? Будет ли у человека право «завершить» своё существование по собственной воле?
Кроме того, появится разрыв между бессмертными и смертными поколениями. Как будет взаимодействовать 800-летний человек с людьми, которые живут стандартные 80 лет? Будут ли они воспринимать друг друга как равных?
Уже сейчас мы видим, как быстро технологии создают разрыв между поколениями. Люди, которым 70-80 лет, часто не понимают цифровой мир, в котором живёт молодёжь. Представьте, что этот разрыв растянется на 1000 лет. Будут ли бессмертные люди чувствовать себя частью общества или превратятся в закрытую касту?
Если люди перестанут умирать, появится новый страх — страх застрять в бесконечной жизни. Сегодня человек живёт, зная, что у него есть конец, но если этот конец исчезнет, он может столкнуться с экзистенциальной паникой.
В фильмах и книгах, где исследуется идея бессмертия, часто показаны персонажи, которые в какой-то момент понимают, что бессмертие — это не свобода, а ловушка. Без финала жизнь превращается в бесконечный цикл повторяющихся событий, который невозможно завершить.
Сартр рассматривал тему «наказания вечности». В его пьесе «За закрытыми дверями» герои оказываются в аду, но ад — это не огонь и муки, а просто бесконечное существование в одном и том же состоянии.
Возможно, бессмертие не избавит нас от страха, а создаст новый, ещё более глубокий.
Изменит ли бессмертие саму природу человека?
Мы привыкли думать, что страх смерти — зло, от которого нужно избавиться. Но возможно, он выполняет важную роль, создавая структуру человеческой мотивации. Если убрать этот страх, изменится ли сам человек?
Сегодня мы боимся смерти. Завтра, если бессмертие станет реальностью, мы, возможно, будем бояться вечной жизни. Так стоит ли стремиться к тому, чтобы устранить смерть, или важнее научиться жить осмысленно в отведённое нам время?
Философия и этика продления жизни
Бессмертие кажется логическим продолжением прогресса. Если медицина и технологии способны продлить жизнь, разве не следует воспользоваться этим шансом? Но за этим вопросом скрываются сложные моральные и философские дилеммы.
Стоит ли стремиться к бесконечной жизни, если сама идея жизни основана на конечности? Может ли бессмертие быть справедливым, если оно доступно не всем? Не приведёт ли оно к новым формам страдания?
Парадокс
На первый взгляд, идея бессмертия кажется позитивной. Если убрать смерть, человек получит неограниченное время для познания, творчества, путешествий, саморазвития. Не нужно будет бояться болезней, старости, утраты близких.
С другой стороны, бессмертие может превратиться в тяжёлое бремя. Люди живут, зная, что их время ограничено, и это придаёт смыслы их поступкам. Если жизни нет конца, исчезает и её острота.
Философы, такие как Альбер Камю, утверждали, что смысл жизни рождается из её конечности. Человек стремится к чему-то, потому что у него мало времени. Если времени будет бесконечно много, исчезнет сама мотивация к действию.
Есть ещё один парадокс: чтобы бессмертие имело смысл, оно должно сопровождаться не только продлением жизни, но и сохранением психической устойчивости. Какой будет психика человека, который живёт 300, 500, 1000 лет? Выдержит ли она нагрузку времени?
Неравенство
Если бессмертие станет технологически возможным, кто его получит?
История показывает, что любые значимые достижения науки сначала становятся достоянием богатых. Если вечная жизнь будет стоить миллионы долларов, получат её только самые обеспеченные. Это приведёт к появлению «касты бессмертных» — элиты, которая будет жить вечно, пока остальные люди продолжат рождаться, стареть и умирать.
В мире, где одни живут 80 лет, а другие 800, неизбежно возникнет социальное напряжение.
Сценарий общества, разделённого на смертных и бессмертных, уже стал популярной темой в литературе и кино. В фильме «Время» (2011) люди покупают и продают «часы жизни», и богатые фактически получают бессмертие, тогда как бедные вынуждены бороться за каждую дополнительную минуту.
Вопрос не только в справедливости, но и в динамике развития. История движется сменой поколений. Если одни и те же люди будут жить и править в течение столетий, не приведёт ли это к застою?
Экзистенциальная проблема
Человечество привыкло мыслить себя в рамках преодоления. Мы развиваемся, потому что перед нами стоят вызовы: болезнь, старение, кризисы. Но если вызовы исчезнут, куда направится человеческая энергия?
В культуре есть множество сюжетов, где бессмертие оказывается не благословением, а наказанием. Персонажи, которые живут вечно, часто изображены как холодные, циничные, оторванные от реальности. Они теряют способность удивляться, переживать, чувствовать боль утраты — и вместе с этим теряют часть своей человечности.
Альтернатива или иллюзия
Может ли цифровая копия, созданная на основе наших мыслей, памяти и поведения, считаться «нами»? Или это всего лишь симуляция?
Если сознание — это не просто набор данных, а нечто большее, то цифровая копия не будет тождественна оригиналу.
Но даже если сознание можно будет перенести в компьютер без потери личности, возникает другая проблема: каково это — существовать в виртуальной реальности? Будет ли такой мир комфортным? Или люди, ставшие цифровыми существами, в итоге захотят вернуться в биологическую форму?
Моральные границы
Смерть является важным социальным регулятором. Она ограничивает власть, передаёт ресурсы новым поколениям, создаёт естественный порядок вещей. Если её устранить, нарушатся многие базовые принципы общества.
Выбор
Если технологии позволят продлевать жизнь, появится моральная дилемма: должны ли все люди стремиться к бессмертию, или оно должно быть личным выбором?
Возможно, лучший вариант — не полное устранение смерти, а возможность самому решать, когда жизнь должна закончиться. Но готовы ли мы к тому, что такой выбор станет реальностью?
Практические последствия и сценарии будущего
Если человечество когда-нибудь преодолеет смерть, этот шаг изменит мир больше, чем любое другое открытие. Ни один прорыв в науке и технологиях не сможет сравниться с тем, что произойдёт, когда люди перестанут умирать. Всё общество — экономика, политика, культура, социальные отношения — будет вынуждено перестроиться. Возможно, мы даже не можем предсказать всех последствий бессмертия, но некоторые из них уже можно предположить.
Рынок труда
Сегодняшняя экономика строится на идее того, что люди умирают и на их место приходят новые поколения. Молодёжь заменяет стареющих работников, появляются новые профессии, открываются карьерные возможности.
Если бессмертные люди смогут бесконечно продлевать свою карьеру, появится застой. Высокие должности будут занимать одни и те же люди веками, и молодым поколениям просто некуда будет расти.
Возможно, это приведёт к новому типу общества, где карьера будет ограничена временными рамками: например, человеку будет позволено занимать определённую должность не дольше 50 лет. Но кто захочет уходить в отставку, если впереди вечность?
Кроме того, если богатые люди получат бессмертие раньше бедных, их капитал будет накапливаться бесконечно. Они смогут контролировать ресурсы, компании, недвижимость веками, превращаясь в фактически бессменную аристократию. Разрыв между классами станет настолько глубоким, что обычному человеку будет невозможно даже приблизиться к элите.
Возможно, появится новый вид налогообложения: «налог на бессмертие», ограничивающий концентрацию капитала у долгожителей. Но приведёт ли это к равенству, или лишь к ещё большему социальному напряжению?
Перенаселение
Смерть — естественный способ регулирования численности населения. Если люди перестанут умирать, мир столкнётся с совершенно иным демографическим кризисом.
Возможно, это вынудит человечество переселиться на другие планеты, но даже в таком случае пространство не бесконечно. Если бессмертие станет нормой, правительства, вероятно, введут ограничения на рождаемость.
Но это создаст ещё один кризис. Если новые дети не рождаются, а старые поколения остаются, общество может застопориться в развитии. Молодые люди — двигатель прогресса, потому что именно они приносят новые идеи, ломают старые устои. Без притока нового мышления мир превратится в цивилизацию застывших догм, где всё уже изобретено, а ничего принципиально нового не появляется.
Будущее семьи и социальных связей
Сегодняшняя концепция семьи и любви завязана на конечности жизни. Люди создают семьи, рождают детей, заботятся о близких, потому что время ограничено.
Скорее всего, общество перейдёт к новым формам отношений. Возможно, браки станут временными, с возможностью расторжения каждые 50-100 лет. Возможно, люди будут создавать несколько последовательных семей, живя в разных культурах, странах, социально-экономических системах.
Но появится и другая проблема: психологическая усталость. Сейчас старики часто испытывают одиночество из-за потери друзей и близких. В мире бессмертия такие потери станут ещё более мучительными. Если человек живёт 1000 лет, он теряет десятки поколений своих друзей. Это может привести к тому, что долгожители начнут отдаляться от общества, превращаясь в закрытую элиту, которой уже неинтересно общаться с «молодыми» 80-летними смертными.
Преступления и наказания
Если человек бессмертен, как наказывать его за преступления? Сегодня многие преступления караются тюрьмой, но имеет ли смысл сажать человека на 20 лет, если он может жить вечно?
С одной стороны, пожизненное заключение может стать более суровым наказанием, чем сейчас. Если человек знает, что проведёт 200 или 300 лет в камере, это может быть более страшным, чем смертная казнь.
С другой стороны, изменится ли отношение общества к моральным поступкам? В мире, где жизнь бесконечна, будет ли убийство восприниматься также как сейчас? Или появятся способы «возвращать» убитых к жизни, например, клонированием или цифровым восстановлением сознания?
Политические изменения
Если бессмертие станет возможным, его первыми получат богатые и влиятельные люди.
Сегодня власть меняется, потому что лидеры стареют и уходят, а на их место приходят новые люди с новыми идеями. Если этот процесс остановится, возникнет политический застой.
Представьте, что все президенты, монархи и олигархи получают бессмертие. Это значит, что они останутся на своих позициях пожизненно. Через некоторое время они превратятся в касту «вечных правителей», которые не уступят власть никому.
Это может привести либо к жёсткому авторитаризму, либо, наоборот, к краху всей политической системы, когда люди начнут требовать ротации власти и ограничений на бессмертных лидеров.
Психологическая цена
Помимо социальных и экономических последствий, стоит задать вопрос: а готов ли сам человек к жизни без конца?
Сегодня люди испытывают кризис среднего возраста, депрессии, экзистенциальные тревоги. Они связаны с тем, что у человека есть ограниченное время, и он чувствует его давление.
Будут ли люди терять интерес к жизни, прожив 500 лет? Захотят ли они добровольно уходить, даже если физически останутся здоровыми? Появится ли психологический предел жизни, после которого сознание просто «выгорит»?
Психологи уже сейчас изучают феномен «жизни без целей» — состояния, при котором человек теряет мотивацию, если не сталкивается с вызовами. В мире бессмертия такие состояния могут стать нормой.
***
Если технологии продления жизни окажутся доступны только элите, социальное неравенство достигнет нового уровня. Возможны ли механизмы регулирования? Один из вариантов — международный контроль, аналогичный тому, что действует в ядерной энергетике: ООН или ВОЗ могли бы следить за этическим использованием технологий бессмертия. Другая идея — создание государственного финансирования продления жизни, чтобы оно стало доступным не только миллиардерам, но и широкой аудитории. Однако это потребует переосмысления всей экономической модели общества.
Мы привыкли думать, что смерть — трагедия, но, возможно, она выполняет важную функцию в обществе. Если её устранить, человечество столкнётся с новыми проблемами, к которым оно пока не готово.
При этом продление жизни — неизбежный этап эволюции. Как только технологии позволят жить дольше, люди уже не захотят возвращаться к смертности.
Вопрос лишь в том, готовы ли мы к миру, где смерть исчезнет, но появятся совершенно новые вызовы.
Выводы
Мы воспринимаем страх как нечто негативное, но на деле он играет важную роль в формировании психики. Страх смерти побуждает человека к действию, он лежит в основе большинства культурных, социальных и психологических механизмов.
Возможно, люди научатся перекодировать страх, превращая его в иной источник мотивации. Вместо страха смерти появится страх застрять в вечности, страх за собственную идентичность, страх бесконечного существования. Но если осознанно подойти к этим страхам, можно научиться использовать их как индикаторы того, что в жизни требует внимания.
Страх не исчезнет, но он может стать инструментом, который помогает лучше понять себя.
С развитием технологий изменяется не только продолжительность жизни, но и сам способ переживания эмоций. Сегодня мы уже видим, как цифровые алгоритмы влияют на восприятие реальности: соцсети создают ощущение постоянной нехватки, информационный поток формирует тревожность, а виртуальная среда изменяет представление о времени.
Есть вероятность, что люди начнут разделять свою личность на несколько цифровых копий, проживая одновременно разные сценарии жизни. Это приведёт к появлению новых форм тревожности.
Технологии не избавят от страха, они изменят его природу. Возможно, в будущем страх перестанет быть связанным с биологическим выживанием и превратится в экзистенциальное беспокойство о смысле существования.
Бессмертие — не просто продление жизни. Это радикальное изменение самого принципа существования человека. Оно не избавит нас от тревог, но создаст новые. Оно не решит все социальные и философские вопросы, а только поставит перед нами новые дилеммы.
Человеку свойственно стремиться к бессмертию, но, возможно, истинное развитие заключается не в том, чтобы жить вечно, а в том, чтобы научиться по-настоящему ценить время, которое у нас есть.